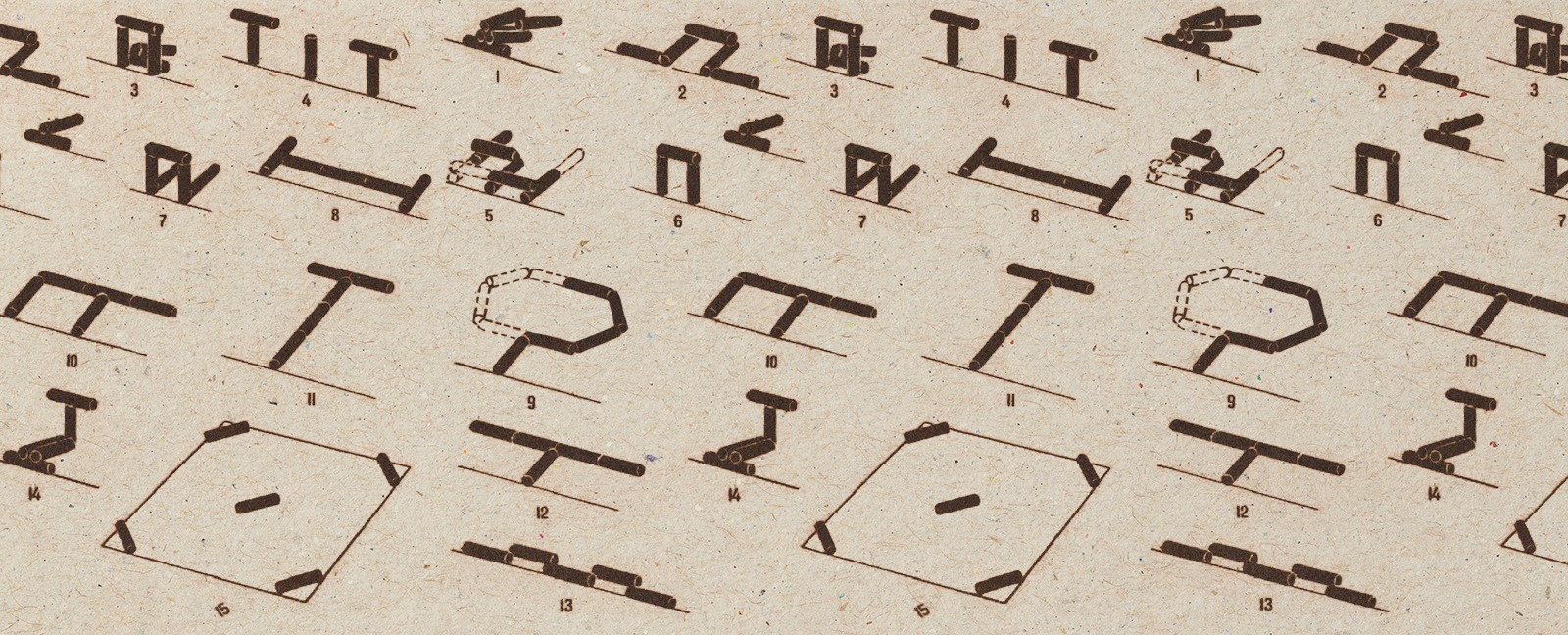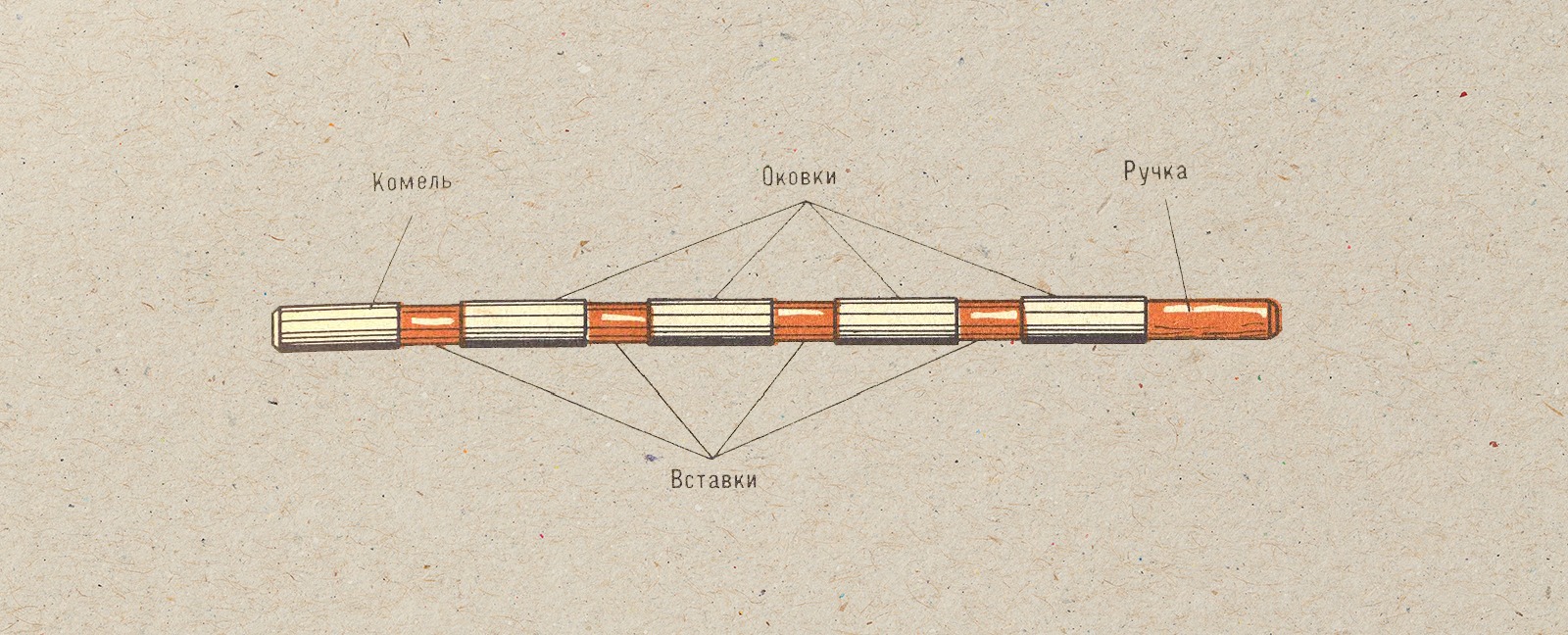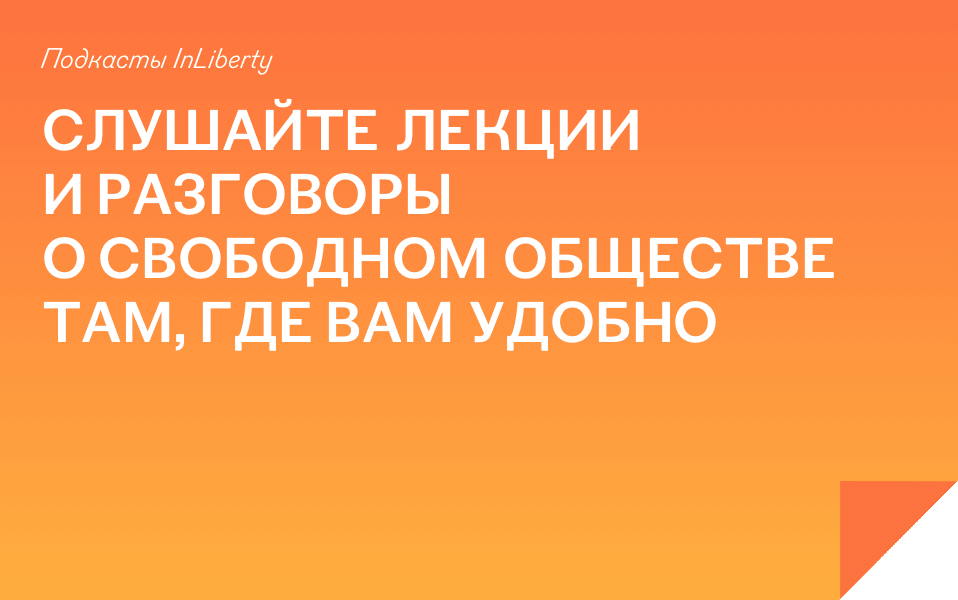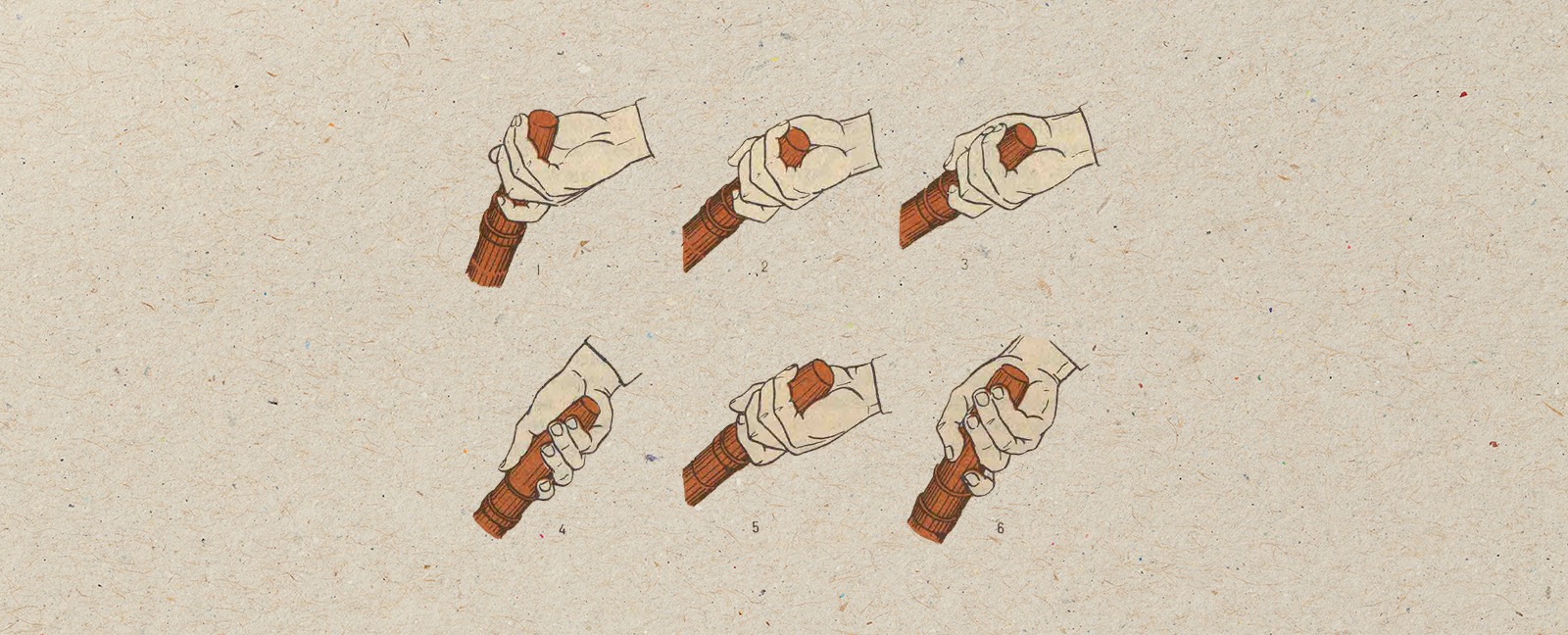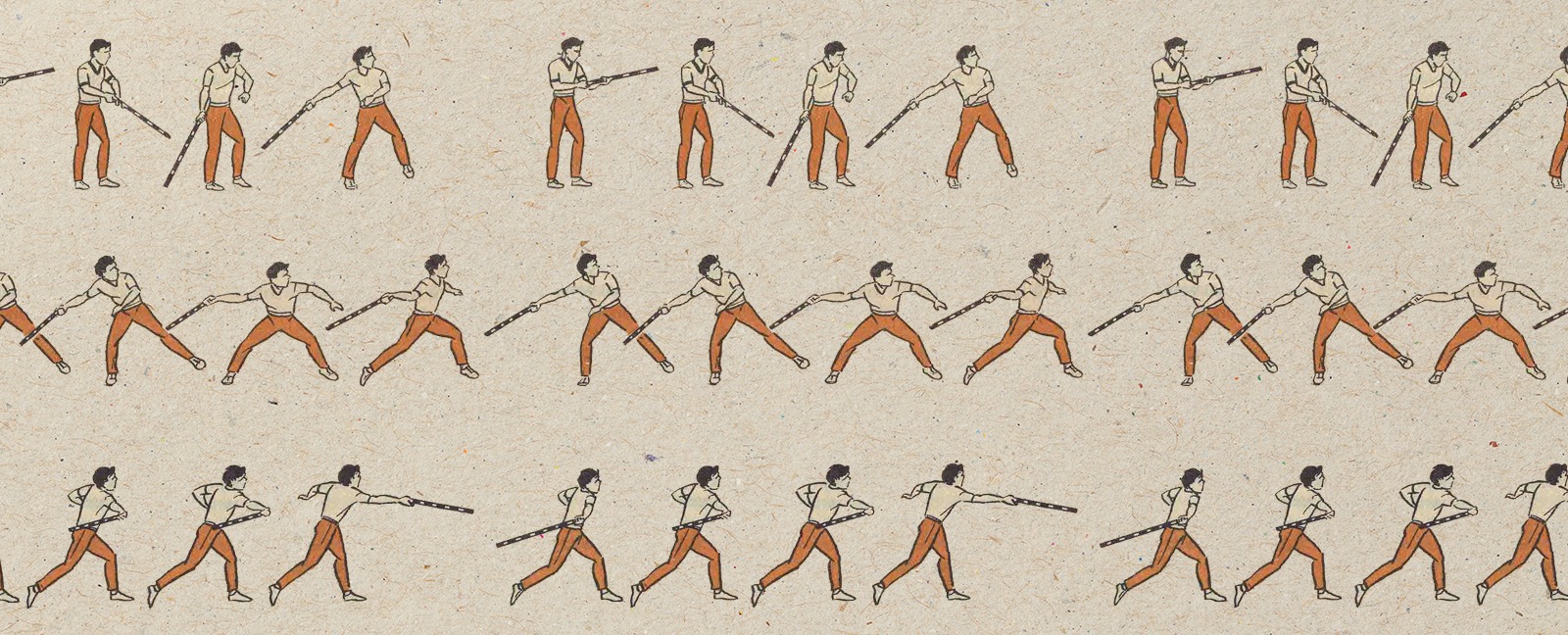1
Забытый рецепт
Что случилось с дискуссией об институтах
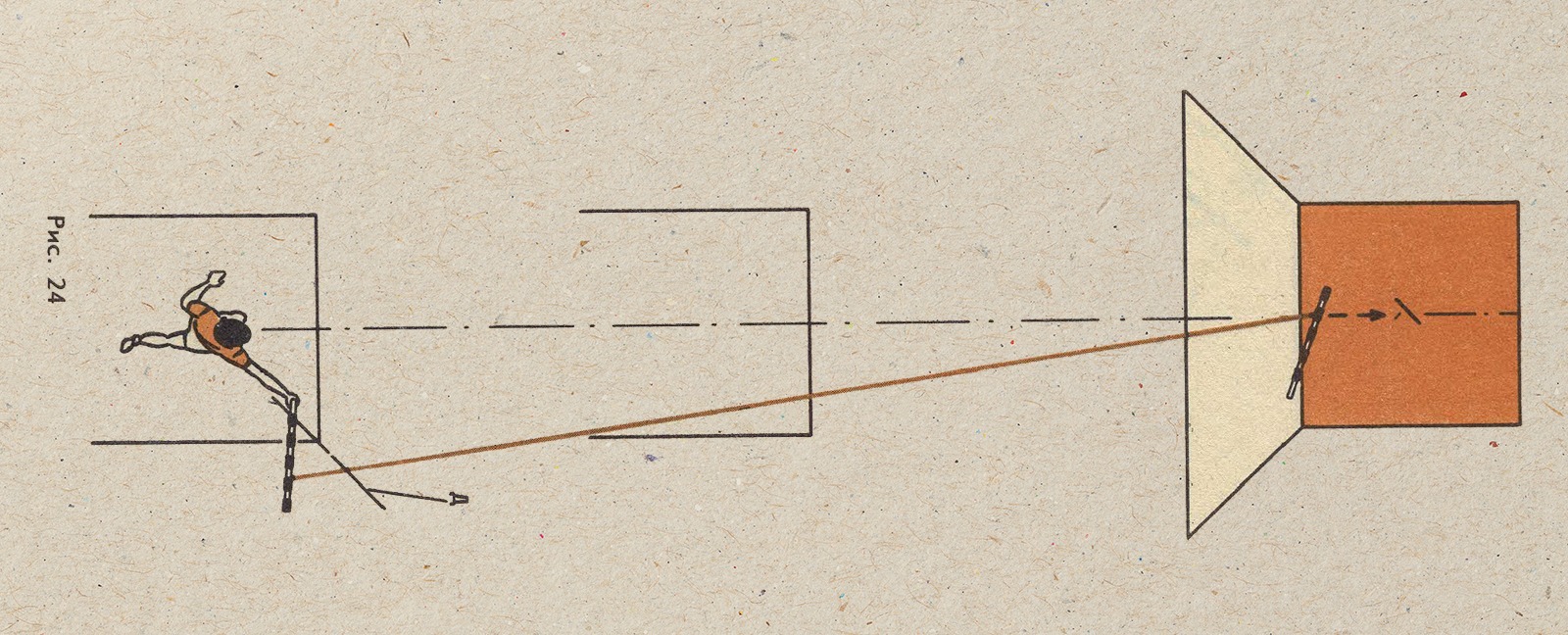
Экономическая наука говорит, что успех и благополучие зависят от качества институтов, иными словами, от качества принятых в обществе правил игры — исполнения контрактов, верховенства права в отношениях между человеком и государством, корпорацией и человеком. Но если когда-то об этих выводах говорили как о «дорожной карте» развития, то в последние годы с дискуссией о единых правилах игры что-то произошло.
Еще несколько лет назад разговор о желанных для общества изменениях правил игры был способом говорить о будущем. Обсуждение неприкосновенности личности, частной собственности и верховенства права как условий для развития было на удивление широким.
«Институциональная экономика для чайников» декана экономического факультета МГУ Александра Аузана выходила в глянцевом журнале Esquire. Аузан говорил там, в частности, что опираться нужно не на что-то «могучее и всеблагое», например на государство, а «опираться надо скорее на правила, которые мы можем использовать в общении между собой. Опираться надо на институты». Книга Ларисы Бураковой «Почему у Грузии получилось», где речь шла и об институциональном строительстве, много и интенсивно обсуждалась.
Публикации в «Ведомостях» о необходимости судебной реформы и о том, каким может быть обращенное лицом к гражданам государство, вызывали живой интерес. В дискуссии участвовали и власти: о книге экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные», предложившей комплексный взгляд на те страны, у которых «получилось», и те, у которых нет, говорилось со сцены Петербургского экономического форума.
Но события 2011–2014 годов — от российских протестов до украинской революции — сильно изменили дискуссию о желаемых общественных изменениях. И граждане, и государство задумались о том, к каким последствиям ведут попытки улучшения общественного порядка снизу. Не только российская государственная элита, но и значительная часть общества связала институциональные изменения с революционными. Кремлю удалось не просто снять идею институциональных трансформаций с повестки дня, но и мобилизовать значительную часть общества на защиту существующего социального порядка.
Контекст в мире изменился и в других отношениях. Кризис коснулся политических институтов западного мира и доминировавших десятилетиями информационных технологий. Центристские партии, державшие власть все послевоенное время, перешли в оборону. Судьба независимых медиа, существовавших раньше благодаря рекламе и заложивших, казалось на века, стандарты непредвзятого освещения событий, оказалась в руках социальных сетей. А у технопредпринимателей собственные приоритеты. Обладание данными о поведении людей в сети позволяет им индивидуализировать распространение информации, но, с другой стороны, загоняет людей в ниши, «защищая» их от неприятных взглядов.
Под индивидуальный профиль пользователя можно подобрать не только коммерческие услуги, но и услуги государства. Утопии больших данных скорее, чем институциональные правила игры, занимают умы лидеров Кремниевой долины и государственных стратегов по всему миру. Потеснив институциональный сдвиг, на первый план вышли технологические инструменты власти и основанные на анализе данных технологии городского благоустройства и общественного транспорта.
Логике защиты жизни, свободы и собственности противостоит логика систем слежения за гражданами и базы данных, вычисляющие кредитоспособность и лояльность граждан. Создаваемая в КНР система социального кредита — не только эксперимент в области социального контроля, но и попытка добиться «западных» целей незападным путем — средствами современных технологий сконструировать доверие между игроками на поле: например, между клиентом и бизнесом, между гражданином и государством.
Российское общество находится посередине: у нас нет ни старых традиций демократических институтов, ни новой централизованной индустрии больших данных. Проблемы правил игры в России поэтому обнажены как нигде. Здесь множество законов и правил, но соблюдают их не все. Есть люди, которым можно не соблюдать законы совсем, а есть люди, которым можно не соблюдать их частично. Законы все время меняются: ни одни выборы не проходят по одним и тем же правилам, условия работы бизнеса непредсказуемы, как погода, а право частной собственности ограничено массой оговорок.
Мы не знаем, когда у жителей России снова появится возможность влиять на политические решения, устанавливающие правила общежития и развития страны. Но к дискуссии о собственных качественных институтах стоит вернуться уже сегодня.

Александр Аузан
декан экономического факультета МГУ
В дискуссии об институтах за последние 10 лет произошло несколько важных вещей. Первое. Возникло понимание, что институты бывают двух разных видов — экстрактивные и инклюзивные. Это идея Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона («Почему одни страны богатые, а другие бедные»), и она на самом деле близка идее порядков «закрытого» и «открытого доступа» у Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста («Насилие и социальные порядки»). Переход между институтами этих двух типов чрезвычайно сложен. Стало ясно, что сам факт институционального развития при экстрактивных институтах будет приводить к улучшению способов захвата ренты.
Второе. Распространилось мнение Лоуренса Харрисона и Сэмюела Хантингтона о том, что культура — как набор установок и общественных норм — имеет значение (сборник «Культура имеет значение»). Стало понятно, что продуктивность институтов, их характер и направленность зависят от того, как они сочетаются с культурными условиями (неформальными институтами). Стало понятно, что нужно создавать «промежуточные» институты (Виктор Полтерович, Дэни Родрик).
Вопрос перехода сложен. Асемоглу и Робинсон говорят, что переход к инклюзивным институтам связан с переходом к политической демократии и созданием широких коалиций оппозиции. Хотя они же говорят и об угрозе революции, напоминая, что революции часто подчиняются «закону олигархии» и воспроизводят в других лицах прежний общественный строй.
Встречаясь с Дароном Асемоглу, я приводил ему простой пример: в его блестящей книге нет одной чрезвычайно важной страны — Германии ХХ века. И ее нет, потому что Веймарская республика была набором инклюзивных политических институтов, но это обстоятельство привело не к появлению инклюзивных экономических институтов, а к совершенно другому. Обсуждение связи эволюции, революции и институциональных преобразований идет, но выводы неоднозначны.

Сергей Гуриев
главный экономист ЕБРР, в 2016–2017 годах — президент Общества институциональной и организационной экономики
Я не хотел бы говорить о дискуссии в России, так как, к сожалению, недостаточно в ней разбираюсь. Вопросы об институциональных изменениях по-прежнему остаются в центре внимания мировой науки, и суть этой дискуссии крайне актуальна для России. Если раньше обсуждение факторов, определяющих долгосрочное экономическое развитие, концентрировалось на взаимодействии географических факторов (климат, доступ к морю и т.д.), человеческого капитала (образование и навыки) и институтов (защита прав собственности, верховенство права, исполнение контрактов), то теперь к этому треугольнику добавилась и культура (понимаемая как набор общественных норм, предпочтений и убеждений). Очевидно, что культура влияет на экономический рост как напрямую, так и посредством своего влияния на накопление человеческого капитала и на развитие институтов.
Исследование культурных факторов отстает от исследования институтов на 10–20 лет. Если в институциональной экономике сейчас сложился консенсус и с точки зрения методологии измерения институтов, и с точки зрения их влияния на экономический рост (как напрямую, так и через влияние на накопление человеческого капитала), то в исследованиях культуры есть разногласия по поводу того, какие именно нормы, предпочтения и убеждения играют ключевую роль с экономической точки зрения, а также по поводу того, на что влияет культура и что определяет ее изменение. Споры идут и о том, насколько быстро может изменяться культура и в какой степени она предопределена историей.
При этом консенсус институционалистов не только никуда не делся, но и стал мейнстримом. Для экономического роста нужны хорошие институты: права собственности, верховенство права, конкуренция и отсутствие коррупции. Стал мейнстримом и ответ политэкономистов на вопрос, почему не все страны пытаются строить хорошие институты. Все дело в том, что правящим политикам и элитам выгодна не политика, приводящая к росту, а политика, позволяющая удержаться у власти, а это не всегда одно и то же.
В этом смысле нет никакого бинома Ньютона в том, что многие (особенно недемократические) режимы не стремятся улучшать институты. Главный вопрос в том, можно ли улучшить институты, если этого на самом деле хотеть, — и если можно, то как, — и какую роль в этом играют история и культура.

Симон Кордонский
профессор Высшей школы экономики, председатель экспертного совета Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники»
Разговоры об институтах исчезли, потому что из публичной сферы ушли носители этого мировоззрения. Многие рассчитывали, что им найдется место в системе, но не случилось. В результате они оказались в корпорациях, где сидят и долбят, что все не так, что надо делать как-то иначе — в соответствии с тем, как учит та или иная экономическая секта, к которой они принадлежат. Эта категория людей — российские «иностранцы». Это русские, которые были обучены в импортной понятийной системе. Они нужны корпорантам — если вообще нужны, — чтобы отчитываться о результатах деятельности по импортным стандартам. Они ушли из публичной сферы в приватную, и в приватной сфере, как я понимаю, эти дискуссии продолжаются.
Может ли дискуссия об институтах актуализироваться в связи со сменой поколений, с передачей ценностей? Относительно богатые люди, которым есть что передавать, решают проблему внутри расширенной семьи. Они передают детям статус, обеспечивающий доступ к ресурсам, а не капитал. У нас, внутри страны, капитала нет, капитал есть за границей. У нас в стране есть ресурсы, которые можно присваивать, распиливать или отбирать. Они переводят ресурсы за границу, где те становятся капиталом, а управляющими капиталом назначают своих детей или иных членов расширенных семей (передача капитала). Параллельно они дают им должности в корпорациях или во власти (передача статуса).
Нет у нас в государстве и личности и гражданства как институтов. Самоопределяющаяся личность — это абстракция, занесенная извне, как и понятие гражданства. У нас в государстве только подданные. При этом многие люди считают себя гражданами, но государство их считает подданными. Мы выступаем подданными и рентополучателями. Согласно тому мировоззрению, которое пронизывает все государство, оно населено людьми, которые должны быть благодарны государству за то, что им что-то досталось в ходе дележки ресурсов. Но, конечно, кому-то достается больше, кому-то меньше — образуется социальная несправедливость, проблема, которую государство пытается решать, перераспределяя ресурсы. У нас другая справедливость, распределительная, а не уравнительная, и другая система права: скорее феодальная, чем либеральная.

Элла Панеях
доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге
Дискуссия об институтах ушла на второй план, потому что у большинства экспертов, принимавших участие в дискуссии, в какой-то момент исчезла надежда на положительные институциональные изменения «сверху», а экспертное сообщество в России привыкло давать советы власти, рассуждать в стиле «если бы директором был я». Если директор однозначно не прислушается, к чему давать советы?
Добросовестный эксперт при этом еще может принимать во внимание, что директор может, не дай бог, и прислушаться: взять из твоих идей то, что удобно и выгодно, или использовать полученное знание во зло. У меня лично появилось в определенный момент подозрение, что позитивным процессам в обществе такая рефлексия в наших условиях не всегда помогает. Государство читает аналитиков быстрее, чем их идеи усваивает общество, и успевает перекрывать кислород позитивным тенденциям.
Но сейчас ситуация меняется: все больше политической воли сосредоточено не «наверху», где царит страх перед будущим и стагнация, а «внизу», где постепенно созревают новые институты гражданского общества, накапливается социальный капитал нового типа, формируется понимание общественных проблем, запрос на солидарность и механизмы противодействия различным формам беззакония и несправедливости, а значит, и на знание о том, как правила игры в обществе сейчас устроены на самом деле. В этой ситуации публичный разговор о правилах игры может быть обращен уже не к власти, а к людям. К общественности, к активной части населения, к активистам, которым важно понимать, агентами каких, собственно, перемен они являются. И можно видеть, что разговор о правилах игры постепенно возобновляется.

Константин Сонин
профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики
Cправедливо ли модное ныне разочарование в институциональной экономике? Правда ли, что бурное развитие теории институтов в начале ХХI века пообещало что-то, что потом оказалось невыполненным?
Институциональная экономика, выросшая из работ по прикладной микроэкономике — теории отраслевых рынков, из изучения контрактов и защиты прав собственности Рональда Коуза, Оливера Уильямсона, Оливера Харта, Гэри Лейбкапа, Дугласа Норта и других, — дала новое понимание проблем экономического развития. Институты, обеспечивающие защиту прав собственности, оказались важнейшим детерминантом того, что происходило со странами в долгосрочной перспективе. Страны с законами, не обеспечивающими эффективную защиту прав кредиторов, страны с медленно работающими, некомпетентными судами, страны с коррумпированной полицией развиваются медленно или вообще стагнируют. Страны, в которых кредитор может быстро и дешево вернуть свои деньги, напротив, имеют хорошие условия для работы финансовых рынков и развития инноваций и растут, соответственно, быстро.
В XXI веке работы Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона перевели анализ институтов, и теоретический, и эмпирический, на новый уровень. Они придали четкую форму идеям Норта в области развития и связали эволюцию институтов защиты прав собственности с эволюцией политических институтов. В области эмпирического анализа ключевым вкладом стало использование «инструментальных переменных», математического метода извлечения причинно-следственной зависимости из данных. Асемоглу и Робинсон cами установили важные зависимости в исторических данных и, что, возможно, важнее, проложили дорогу целому поколению исследователей.
К сожалению, вовсе не каждая важная зависимость, установленная учеными, дает конкретный рецепт для исправления неэффективности. Например, опыт переходных экономик показал, что богатые экономические субъекты могут быть основным политическим противником развития институтов защиты прав собственности — принятия законов, защищающих права акционеров, назначения профессиональных, некоррумпированных регуляторов и судей. Это противоречило классическому взгляду на защиту прав собственности — до этого основными врагами считались, помимо обычных грабителей, либо сильный суверен в недемократическом режиме, либо бедное большинство в демократическом. Одним из «практических» выводов является то, что масштабная приватизация должна следовать за построением институтов, а не предшествовать ему. Но практичность этого вывода чисто теоретическая: российской приватизации начала-середины 1990-х предшествовало как минимум семь лет экономических реформ, внесших нулевой вклад в развитие институтов, которые пригодились бы в дальнейшей жизни страны. Хоть какие-то институты сформировались по ходу 1990-х — как раз в соответствии с парадигмой «формирование рыночных институтов следует за политическим развитием» — и сделали возможным быстрый восстановительный рост 2000-х. Напротив, быстрый рост 2000-х никак не способствовал укреплению судов; в некоторых отношениях институты защиты прав собственности деградировали.
Ключевая сложность с использованием институциональных уроков напрямую — в точности та же, которая возникает с лечением многих хронических заболеваний. Скажем, в случае гипертонии любой врач, в дополнение к таблеткам, снижающим риск сердечных заболеваний, порекомендует снижение веса, сокращение потребляемого алкоголя и бессолевую диету. Соблюдение этих предписаний — теоретически, выбор больного, но, как показывает жизнь, множество людей по факту делают другой выбор — не следовать предписаниям. Похожим образом выглядит ситуация с советами институционалистов: в принципе, никто не против повышения профессионализма и укрепления политической независимости судей, усиления подотчетности чиновников, принимающих регуляторные решения, и снижения коррупции в правоохранительных органах. На практике же это требует серьезных затрат усилий и политического капитала со стороны политического руководства и серьезного внимания к подотчетности этого руководства со стороны граждан. То есть каждодневных усилий и серьезной самодисциплины — того самого, что требуется для соблюдения диеты. Помогает ли человеку соблюдать диету то, что она знает, как устроен механизм нежелания соблюдать? Институционалисты хорошо понимают политические препятствия к проведению непопулярных, но важных реформ.

Григорий Юдин
научный руководитель программы «Политическая философия» Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), докторант New School for Social Research, Нью-Йорк
Дискуссия об оптимальном институциональном устройстве развернулась в институциональной экономике и политической науке, когда казалось, что более или менее идеальное институциональное устройство уже обнаружено (это «западные» либеральные режимы). Задача состояла лишь в том, чтобы надстроить его архитектуру еще более продвинутыми институтами, а также дотянуть до его уровня все остальные страны. Именно поэтому стало модным поучать «развивающиеся» страны относительно того, какие институты им следует «импортировать» и как им выскочить из «институциональных ловушек», чтобы пройти по проторенному пути «демократизации» (то есть превратиться в либеральные демократии по заданному образцу) и наслаждаться экономическим ростом.
Врожденная уязвимость этих дискуссий связана с общим слепым пятном современной либеральной доктрины. Твердо веруя в безличную «власть закона» и «правовое государство», она занята тем, как выстроить наиболее эффективные законы, но мало интересуется тем, на чем эти законы будут держаться и почему кто-то должен их по своей воле исполнять. Закон не обладает никакой самостоятельной властью — правовой порядок должен признаваться людьми, чтобы быть устойчивым и держаться не только на штыках.
Одновременно с этим безусловной догмой стал считаться другой безличный институт — институт рынка, который как будто бы возникает «естественным образом», сам по себе, и должен стать матрицей для всех прочих институтов. Как предупреждал уже в середине ХХ века философ Карл Поланьи, тотальное доминирование рынка гарантированно приводит к включению в обществе механизмов «самозащиты» от него, к попыткам компенсировать власть безличного рынка институтами, которые люди создают совместно и которые не сталкивают их друг с другом во враждебной конкуренции.
Между тем по мере укрепления во власти институционалистов с их изощренными моделями оптимальных институтов происходило постепенное отчуждение всей властной системы от основной народной массы — в этом смысле процессы в России мало отличаются от происходившего в США и странах Западной Европы. В то время как реформаторы-институционалисты придумывали способы «поднять» экономику «отстающих» стран, у них под носом собственные граждане теряли связь с политической системой, которая превращалась в торжество безличного, почти кафкианского закона, который правит просто потому, что никто не помнит, как он оказался на троне. Вполне объяснимо, что реальная власть в этих условиях концентрировалась у небольших элит, которые сильно заинтересованы в том, чтобы разбираться в дискуссиях об институциональном дизайне, участвовать в них и руководить ими.
Если говорить метафорически, люди потеряли веру в институты и покинули их, и те остались стоять как пустые декорации. Вся дискуссия о правильных институтах в последние годы проходила уже в полной пустоте и не была интересна никому, кроме самих участников, хотя они этого и не замечали. Сегодня наступило время, когда люди вновь требуют места в политике: они вернулись с дубинами в руках и готовы снести эти картонные институты — поэтому во всем мире либералы сегодня так боятся популизма, который имеет ярко выраженную антиинституциональную направленность.
Однако правда состоит в том, что никакие институты не могут существовать долго и работать на благо народа без поддержки народа — без легитимности. Изобретение оптимальных правил и законов — очень занимательное, но совершенно схоластическое упражнение, если эти законы не признаются теми, кто должен их исполнять. К сожалению, именно этим грешили в последнее время современная экономическая наука и близкая ей часть социальных и политических наук. Сегодня их умозрительные вопросы сметены с повестки и заменены одним главным вопросом, над которым пока мало кто задумывался: как вообще сегодня построить общество, которое люди не будут считать навязанным? Как вдохнуть в институты жизнь и вернуть им легитимность?
О том, как разбираться в институциональном дизайне современного общества и быть способным менять его к лучшему, расскажет социолог Элла Панеях в рамках своего двухдневного курса «Зомия против Левиафана» 15–16 декабря на площадке InLiberty Рассвет.