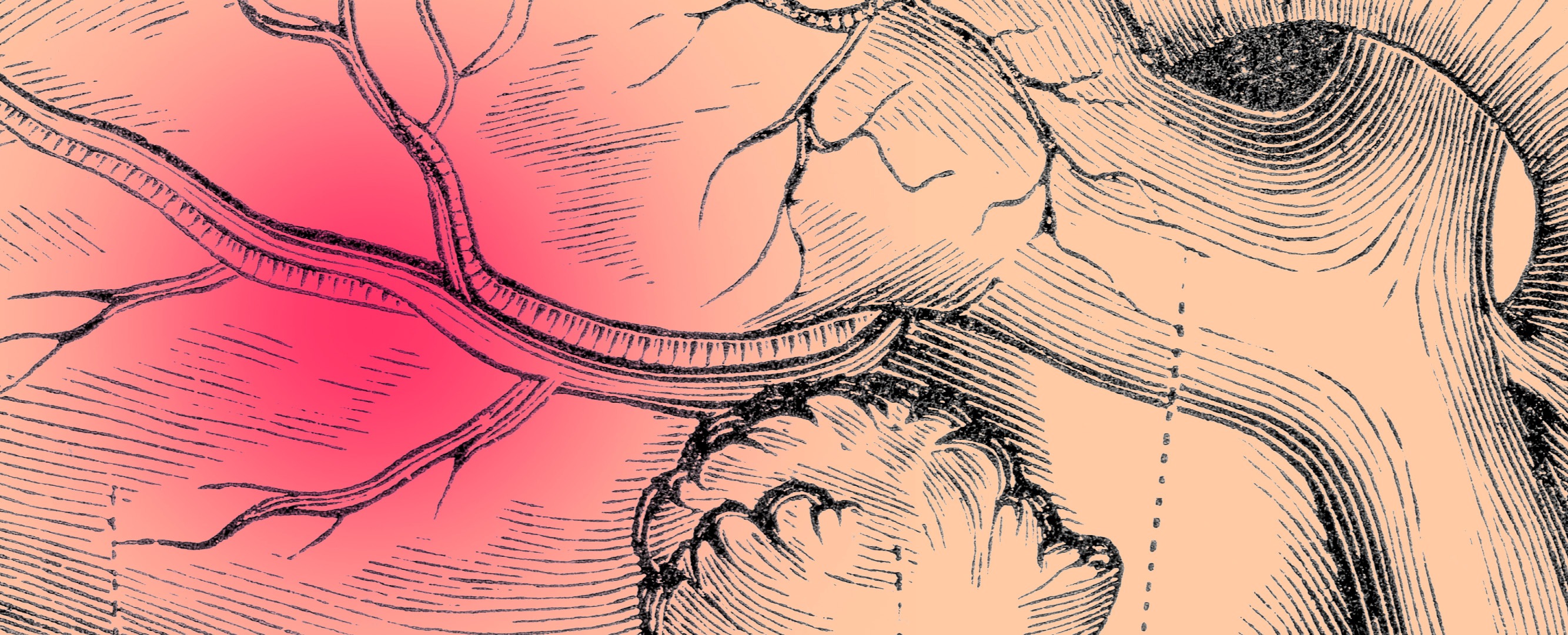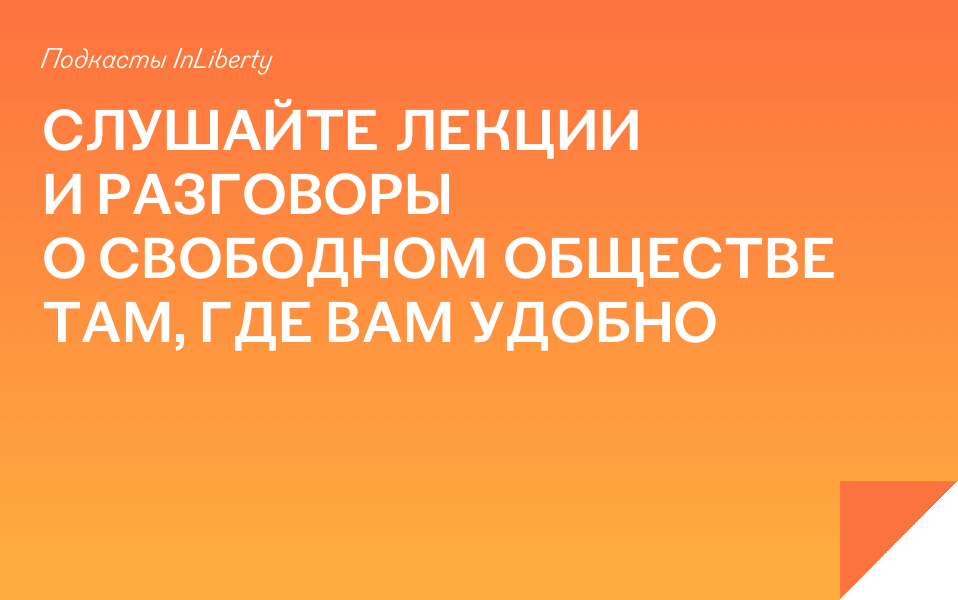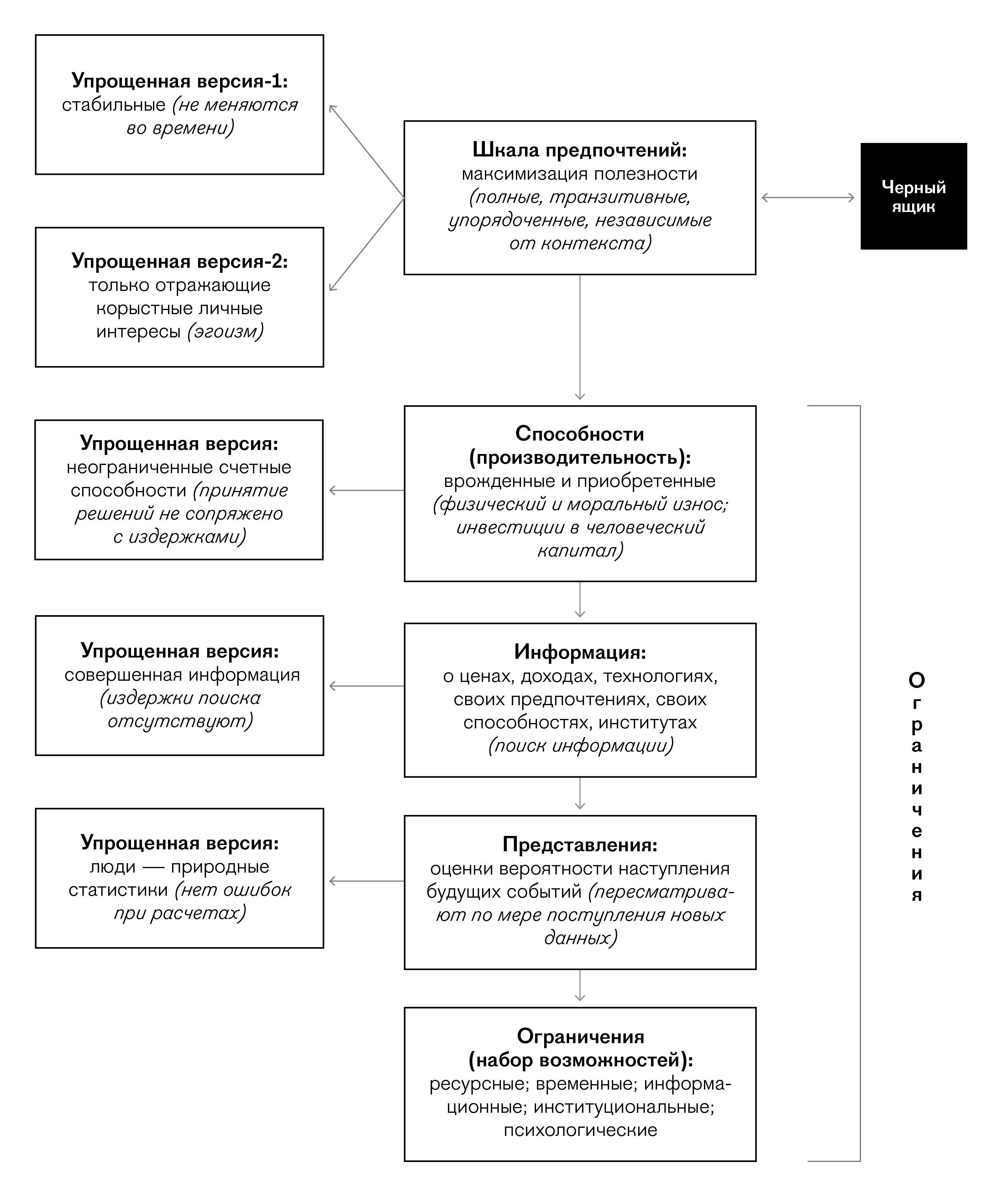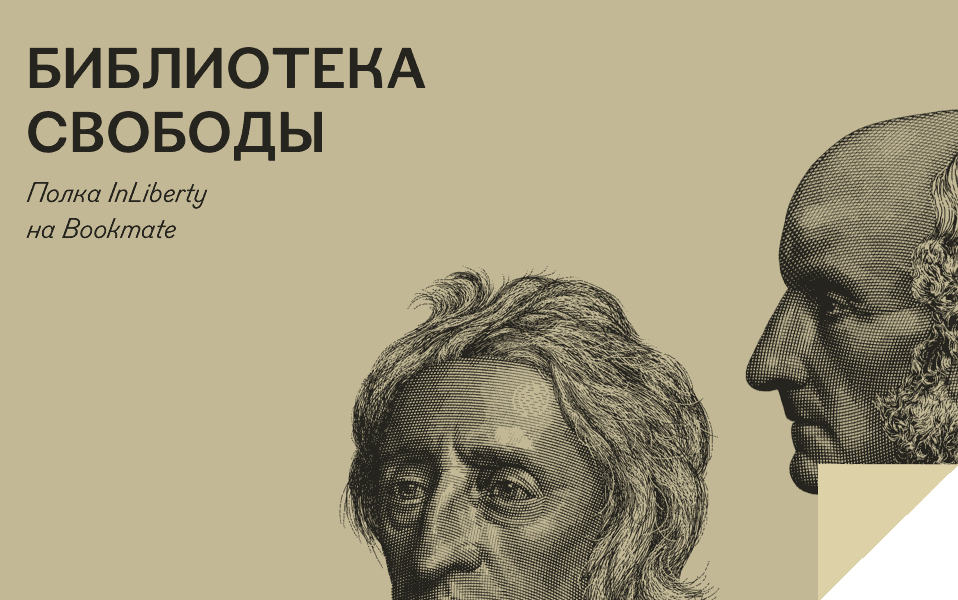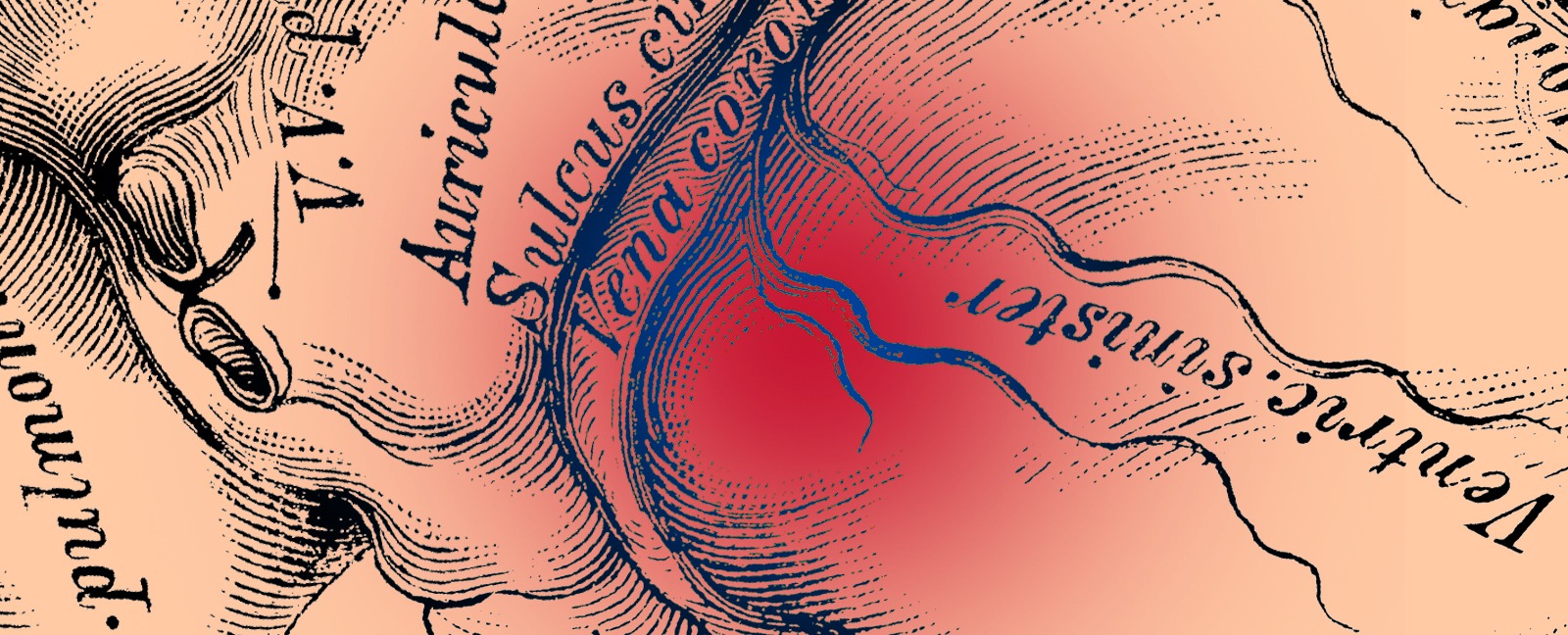1
Рожденный говорить
Язык, мышление, познание
Максим Кронгауз
Заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик Высшей школы экономики
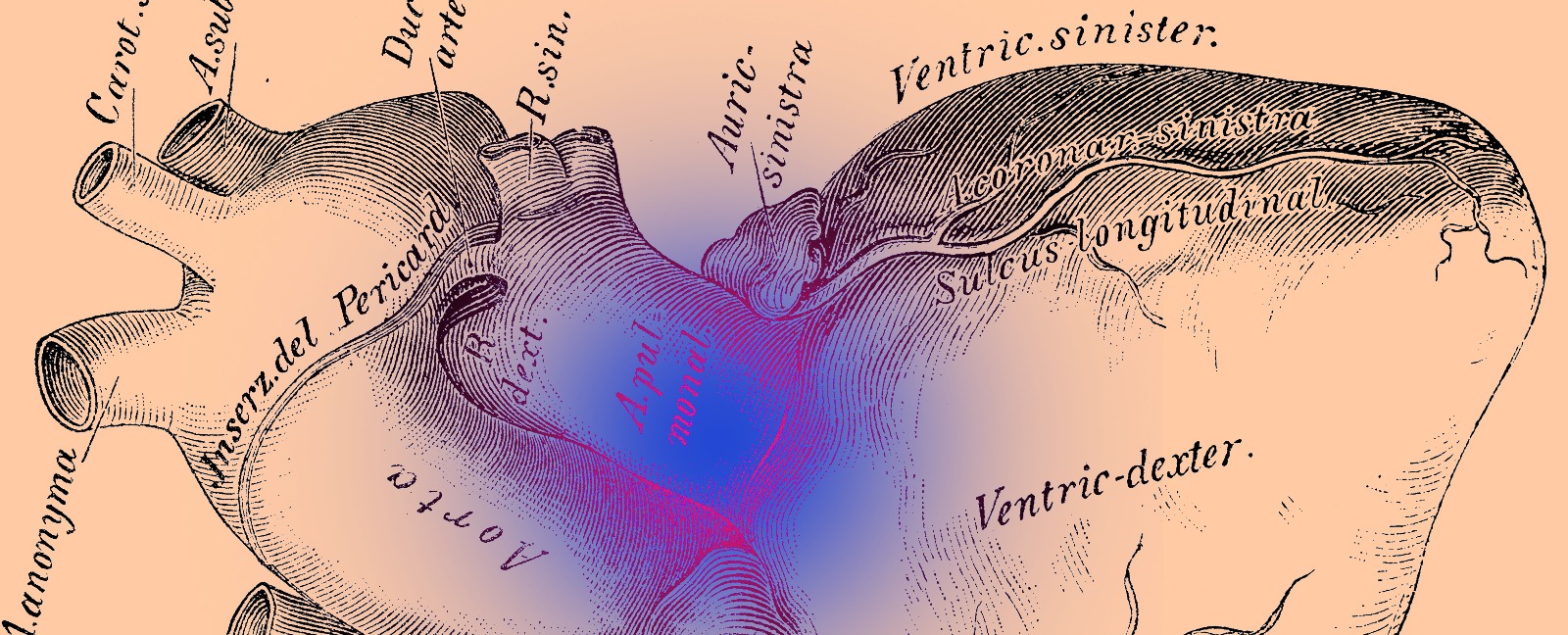
Что думают о человеческой природе лингвисты? Является ли неотъемлемым свойством человека язык? И что мы узнали, когда ученые попытались научить разговаривать обезьян?
Существуют вопросы, которые человечество постоянно задает себе. И один из них: чем человек отличается от других существ? Его можно переформулировать следующим образом: что у нас или в нас есть такого, чего нет у других обитателей Земли? На эту роль можно предложить совесть, мышление, культуру и цивилизацию, религию, игру и юмор, обман, язык и, наверное, многое другое, но ответить на этот вопрос раз и навсегда все равно не получается. Пожалуй, главная проблема с ответом на подобные вопросы состоит в том, что нам трудно проверить наличие у животных совести, культуры, религии — слишком уж эти понятия неточны и расплывчаты.
Например, ни одна наука не способна проверить, есть ли у животных совесть. Животные не пишут стихи, не ставят спектакли, не снимают кино — означает ли это, что у них нет культуры? Кажется, что у животных нет религиозных культов, но уверены ли мы в том, что собака не обожествляет своего хозяина? Более четкие критерии у юмора и игры, однако как раз игровые моменты в жизни животных этологи наблюдают. Пожалуй, самое интересное из этого — обман. Животные, вероятно, обманывают — в охоте хищника, например, присутствуют невербальные элементы обмана. В общем, чтобы проверять наличие чего-то абстрактного, нужно четче и строже определить соответствующие понятия. И это в полной мере касается языка и мышления. У людей есть мышление и язык — это, по существу, аксиома. Мы уверены в этом даже без всякого уточнения понятий. Но и наблюдая, например, за домашними животными, мы видим, что они ведут себя осмысленно и вступают в общение и с нами, и с себе подобными. Можем ли мы не просто спроецировать на животных эти понятия, но и приравнять их к нашим? Иначе говоря, обладают ли животные мышлением? Считать ли их коммуникацию языковой в том же смысле, как и у человека? Могут ли они научиться человеческому языку, если у них его нет? Есть ли у них способность к языку?
Психология и лингвистика стремились к более строгим определениям понятий мышления и языка, и можно сказать, что в XX веке был достигнут значительный прогресс. Сначала очень упрощенно рассмотрим мышление, поскольку лингвистика уделяла ему не так много внимания, что и стало основной причиной критики гипотезы Сепира–Уорфа о том, что язык влияет на мышление, — об этой гипотезе пойдет речь ниже.
Что такое мышление?
Один из стандартных в науке способов уточнения понятия состоит в расщеплении его на две (или более) части, из которых одна определяется более строго, а вся сложность сохраняется в другой. Так, мышление в целом может быть расщеплено на интеллект и сознание. Очень грубо говоря, это две ступени мышления, и интеллект — более простая и легче определяемая ступень.
Несмотря на различные определения интеллекта, его ядром считается решение задач и проблем, а также планирование собственных действий. В начале XX века активно разрабатываются способы измерения интеллекта (например, в работах Чарльза Спирмена).
Cовременная наука считает, что у животных тоже есть интеллект, и его можно измерять. Интеллект животных слабее человеческого, но принципиально, что он называется тем же словом и без всяких кавычек.
Есть много подтверждений наличия интеллекта у животных, в том числе и классический опыт: обезьяна, находящаяся на одном плоту, чтобы полакомиться бананами, находящимися на другом плоту на некотором расстоянии от нее, использует палку, чтобы подогнать к себе плот с бананами, до которого она не может достать лапой. Она планирует свои действия и решает задачу в несколько шагов: берет палку в качестве инструмента, удлиняющего конечности, цепляет плот, подгоняет его поближе и достает бананы. Это научный эксперимент, но хозяевам домашних животных никакие эксперименты не нужны. Они убедились в наличии интеллекта у своих питомцев — собак и кошек — путем простого наблюдения: они видят, что животные решают задачи (например, как побудить хозяина выйти с ними на улицу, накормить их и так далее).
Определить сознание сложнее, этот феномен связан с выделением себя в мире и включением в контекст социальных, коммуникативных и других отношений с людьми. Среди важных характеристик сознания можно выделить следующие:
— включает знания о мире, в том числе о социальном окружении;
— определяет целенаправленность поведения, обеспечивает свободу воли и выбора;
— обеспечивает преднамеренность коммуникации («хочу — шучу, хочу — вру»);
— позволяет отделить «Я» от «Другого», обеспечивает самоузнавание;
— обеспечивает способность оценивать чужие знания и намерения.
Обладают ли животные этими способностями? В стаях волков и собак устанавливается некоторая иерархия — это тоже можно считать социальными отношениями. Животные, конечно, знают что-то о мире. Может ли животное подавать сигнал тревоги шутя? Вообще, такое не наблюдали, но это не значит, что такое невозможно. Некоторые животные (обезьяны, слоны) узнают себя в зеркале. Наверно, животные дают оценку чужим намерениям: перед столкновением они оценивают опыт и силу, хитрость друг друга. Иначе говоря, какие-то животные обладают какими-то из этих способностей, но не все и не всеми, или нам по крайней мере это неизвестно. Это позволяет нам сохранить сознание в целом исключительно за человеком — по крайней мере, до появления новых данных.
Что такое язык?
Язык, как и мышление, считается неотъемлемой характеристикой человека. В нашей коммуникации мы можем использовать и другие знаковые системы, но называем их «языками», подчеркивая нестрогость такого словоупотребления: «язык» моды, кино или дорожных знаков. А как быть с языками животных? Нужно ли говорить здесь о метафоре и ставить кавычки?
Животные, конечно же, подают разного рода сигналы, например, предназначенные половым партнерам, контакта между родителями и потомством, тревоги, о наличии пищи, контакта между членами стаи, намерения, агрессии, миролюбия, фрустрации.
Но готовы ли мы считать такую коммуникацию языковой? Размышления в этом направлении значительно продвинули науку вперед. В 1960-х годах американский лингвист Чарльз Хоккет сформулировал набор из 16 признаков, каждый из которых характерен для человеческого языка. Другим знаковым системам присущи лишь некоторые из этих признаков. Ограничимся самыми интересными.
Семантичность означает присвоение определенного значения некоторому абстрактному символу. Это свойство характерно и для «языков животных», и для прочих «языков».
Структурная двойственность. Человеческий язык обладает одновременно и фонологической (звуковой), и грамматической (смысловой) организацией. Вместо того чтобы для каждого сообщения использовать отдельный сигнал, человеческая речь строится из конечного числа звуков, или фонем, которые, складываясь огромным числом различных способов, образуют смысловую структуру. Этот признак отсылает к понятию двойного членения по Андре Мартине. Двойственность означает, что носители языка не только используют заранее заданный набор сообщений, но могут создавать и новые сообщения.
Продуктивность означает, что носители языка способны создавать и понимать практически бесконечное число сообщений, составленных из конечного числа имеющих смысл единиц. Именно этот механизм делает возможным использование аналогий. Важно, что наличие продуктивности делает язык открытой системой, то есть его носители могут продуцировать неограниченное количество сообщений о чем угодно. Продуктивность связана с понятием рекурсии, то есть возможности вставлять текст в текст, предложение в предложение. Так, в известном стихотворении (в переводе Самуила Маршака) строится фактически бесконечное предложение:
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Произвольность означает, что связь между формой сообщения и его содержанием произвольна, то есть форма сама по себе не подсказывает собственного содержания. Такого рода связь может существовать, она называется иконической. Однако для человеческого языка она второстепенна.
Взаимозаменяемость заключается в том, что любой организм, способный посылать сообщения, должен быть способен и принимать их. Среди языков животных встречаются как языки, обладающие этим свойством, так и языки без взаимозаменяемости.
Специализация заключается в том, что общение совершается с помощью специализированной системы коммуникации, то есть участник коммуникации лишь сообщает что-либо с помощью специфических знаков, а не просто ведет себя соответствующим образом. Человек, по-видимому, обладает максимально специализированной системой общения.
Перемещаемость означает, что предмет сообщения и его результаты могут быть удалены во времени и пространстве от источника сообщения. Мы можем говорить не только о том, что находится перед нашими глазами, но и о прошлом (благодаря памяти), и, что еще сложнее, о будущем, и даже о невозможном — во многих языках есть специальная категория ирреальности.
Культурная преемственность — способность передавать информацию о смысле символов новым поколениям посредством обучения и подражания, то есть посредством культурной, а не генетической преемственности. Если мой ребенок попадет в семью, живущую в другой стране, то он выучит другой язык, а если попадет в лес, как Маугли, он вообще не выучит человеческого языка.
Некоторые из этих признаков языка могут быть и в языках животных — например, перемещаемость. Ученые сходятся во мнении, что пчелы танцем передают информацию о наличии источника меда, и даже придумали механическую пчелу, которая подавала такие сигналы. Но, например, культурной преемственности у языка пчел нет. Ни один язык животных не дотягивает в целом до человеческого, и, говоря о них, мы должны использовать кавычки. Это не языки, это как бы языки.
Говорящая обезьяна
Итак, коммуникацию животных друг с другом нельзя считать языковой в полном смысле слова. Но это не означает отсутствия у них языковых способностей. Почему бы не предположить, что животных можно обучить человеческому языку?
В течение XX века это пытались сделать с обезьянами. И эта история, подробно изложенная в книге Зои Зориной и Анны Смирновой «О чем рассказали „говорящие“ обезьяны: способны ли высшие животные оперировать символами?» (2006), имеет и комические, и трагические черты. Так, английский ученый Уильям Фурнесс в начале XX века купил взрослых орангутанов и шимпанзе, и самка орангутана за шесть месяцев научилась говорить «dad», потом — «cup», а после в процессе обучения скончалась от пневмонии. Шимпанзе даже в течение пяти лет не смог овладеть словом «cup». К сожалению, результаты этого эксперимента приходится признать ничтожными. Дело пошло значительно лучше после того, как люди исправили два пробела в этом образовательном процессе.
Во-первых, речевой аппарат обезьян не приспособлен к произнесению звуков человеческой речи — попугаи или вороны, например, легче обучаются устной речи. Решение этой проблемы состояло в использовании языков-посредников. Среди них были амслен (язык американских глухонемых), йеркиш (компьютерная клавиатура) и язык жетонов, которые выкладывались на магнитной доске.
Во-вторых, взрослые обезьяны плохо поддаются обучению. Как мы понимаем, маленький ребенок выучивает язык намного быстрее, чем взрослый, умный и интеллигентный человек. Решение второй проблемы состояло в том, что человеческому языку стали учить юных обезьян. Ученые-энтузиасты брали их в семью, воспитывали и учили языку.
Самая известная «говорящая» обезьяна, которую обучили амслену, — Уошо. Ее в 1966 году взяли к себе в дом супруги Аллен и Беатрис Гарднеры, а в 1967-м в работе начал участвовать и их ассистент Роджер Футс. В 1970 году эксперимент был закончен, и Футс отвез Уошо в Институт изучения приматов в Оклахоме («Обезьянья ферма»). Колония обезьян («семья Уошо») пополнялась другими бывшими участниками подобных экспериментов и переезжала из института в институт.
Здесь заложена еще одна важная проблема, точнее, противоречие двух принципов. С одной стороны, обучение языку плодотворнее, когда используются все возможные средства, в том числе невербальные: интонация, громкость, мимика, взгляды и т.п. С другой стороны, чистота эксперимента и при обучении, и при проведении экзаменов требует исключения всех неязыковых средств. Таким образом, естественные условия мультиканального общения всеми способами уничтожались, но ведь, если бы людей воспитывали в таких чистых и стерильных условиях, усвоение тоже происходило бы гораздо хуже.
Итак, Уошо поселили в трейлере и изолировали от устной речи других людей — для чистоты эксперимента, чтобы она не получала никаких других сигналов. За пять лет обучения она активно овладела примерно 150 знаками, а пассивно — еще большим количеством. Это хороший показатель, хотя были и более высокие. Один из рекордсменов, бонобо (карликовый шимпанзе) Канзи, овладела 300–400 знаками йеркиша, а горилла Коко выучила 400 жестов. В целом, ученые сходятся на том, что обезьяны овладели языком на уровне 2–2,5-летних детей, что является очень хорошим показателем.
Необходимо отметить и некоторые любопытные моменты, возникавшие в процессе обучения разных обезьян. Например, когда обезьянам, которые проходили эксперименты, предлагали поместить себя в определенную группу, то есть произвести некоторую классификацию животных и людей, обезьяны помещали себя в группу людей, а не животных. Это свидетельствует о том, что обучение в их сознании приравнивало их к человеку, что очень важно, ведь владение языком в большой степени способствует и самоидентификации человека.
Были и отдельные достижения — например, обезьяны научились вербально шутить. Шутка была такого рода: одного из служителей звали, кажется, Джек, обезьяна выложила жетонами «грязный Джек» — и это было ругательство, построенное по нашим языковым моделям. Еще несколько раз было замечено, как обезьяны совершили прорыв в смысле культурной преемственности — мать, участвующая в эксперименте, помогала сыну овладеть словами, правда, уже вне эксперимента. Еще один яркий пример: у обезьян открылась внутренняя речь. Их учили амслену, и было замечено, что одна обезьяна, рассматривая картинки, жестикулирует на амслене. Все это очевидные и чрезвычайно важные прорывы, но все-таки разовые, то есть наблюдаемые однократно или несколько раз.
Гипотеза Сепира–Уорфа
Перейдем от экспериментов с обезьянами к другой теме — связи языка и мышления. Эта связь кажется очевидной, особенно когда мы говорим о довольно абстрактных, трудноопределимых вещах. Так, русское слово «тоска», по-видимому, не имеет точного перевода на другие языки, и скорее всего, англичане или французы испытывают не тоску, а что-то другое. Но наука не может оперировать такими вещами, поэтому в течение довольно долгого времени ученые пытались эту связь определить точнее. В середине XX века была сформулирована гипотеза лингвистической относительности, или гипотеза Сепира–Уорфа, о том, что конкретный язык определяет мышление и способ познания человека, на нем говорящего. Гипотеза существует в двух версиях — сильной и слабой. Согласно сильной версии, язык детерминирует, то есть предопределяет мышление. Согласно слабой, язык влияет на мышление.
Создателями гипотезы считаются Эдуард Сепир и Бенджамин Уорф, хотя и само название, и формулировки слабой и сильной версии принадлежат не им, а их последователям и, собственно, появились уже после смерти Сепира и Уорфа. Разберем эту историю чуть подробнее.
Эдуард Сепир (1884–1939) — великий американский лингвист, создатель этнолингвистики. Правда, своим появлением этнолингвистика отчасти обязана и учителю Сепира Францу Боасу, основателю антропологической школы. Он вместе со своими учениками изучал языки и культуру американских индейцев и накопил огромный языковой материал — описание языков Северной и Центральной Америки. Боас выдвинул принцип культурного релятивизма, по сути, отрицавший превосходство западной культуры и утверждавший, что поведение людей, в том числе и речевое, должно оцениваться в рамках их собственной культуры, а не с точки зрения других культур, считающих такое поведение бессмысленным или даже варварским.
Эдуард Сепир, используя накопленный языковой материал, сравнивал грамматические системы многочисленных языков, обнажал их различия и делал на этом основании более масштабные выводы. Он полагал, что язык — это «символический ключ к поведению», потому что опыт в значительной степени интерпретируется через призму конкретного языка и наиболее явно проявляется во взаимосвязи языка и мышления. Влияние Сепира в среде американских лингвистов трудно переоценить. Он, так же как и Боас, создал свою школу, но, в отличие от него, уже сугубо лингвистическую. Среди учеников Сепира был и химик-технолог, служивший инспектором в страховой компании — Бенджамин Ли Уорф (1897–1941). Интерес Уорфа к языку проявлялся даже и на его рабочем месте. Расследуя случаи возгорания на складах, он обратил внимание, что люди никогда не курят рядом с полными бензиновыми цистернами, но, если на складе написано empty gasoline drums, то есть «пустые цистерны из-под бензина», люди ведут себя принципиально иначе: курят и небрежно бросают окурки. Он отметил, что такое поведение вызвано словом empty: даже зная, что бензиновые пары в цистернах более взрыво- и пожароопасны, чем просто бензин, люди расслабляются. В этом и других подобных примерах Уорф усматривал влияние языка на человеческое мышление и поведение.
Но, конечно, его вкладом в науку стали не эти любопытные, но вполне дилетантские наблюдения, а то, что, вслед за своим учителем, Уорф обратился к индейским языкам. Отличие языков и культуры индейцев от того, что было ему хорошо известно, оказалось столь значительным, что он не стал разбираться в нюансах и объединил все «цивилизованные» языки и культуры под общим названием «среднеевропейский стандарт» (Standard Average European).
Одна из главных работ Уорфа, которая легла в фундамент гипотезы, как раз и была посвящена сравнению выражений понятия времени в европейских языках, с одной стороны, и в языке индейцев хопи — с другой. Он показал, что в языке хопи нет слов со значением времени (периода времени), таких как «мгновение», «час», «понедельник», «утро», и хопи не рассматривают время как поток дискретных элементов. В этой работе Уорф проследил, как соотносятся грамматические и лексические способы выражения времени в разных языках с поведением и культурой носителей этих языков.
Еще один знаменитый пример Уорфа связан с количеством слов для обозначения снега в разных языках. Цитируя Боаса, Уорф говорил, что в эскимосских языках есть несколько разных слов для обозначения разных видов снега, а в английском все они объединены в одном слове snow. Свою главную идею Уорф высказал, в частности, таким образом: «Мы членим природу по линиям, проложенным нашим родным языком», — и назвал ее гипотезой лингвистической относительности.
В 1953 году другой ученик Сепира и коллега Уорфа Харри Хойер организовал знаменитую конференцию, посвященную этой гипотезе, и привлек к ней не только лингвистов, но и психологов, философов и представителей других гуманитарных наук — как сторонников гипотезы, так и ее противников. Дискуссии на конференции были крайне плодотворны, а по ее итогам был опубликован сборник материалов. Вскоре появился и полный сборник статей Уорфа, изданный посмертно, — по сути, основной его труд. Все это стало первым пиком научного и общественного интереса к гипотезе, ознаменовавшим ее взлет.
А дальше началась череда разочарований и неприятностей, состоявших в разоблачении как гипотезы, так и самого Уорфа. Уорфа обвинили в том, что он никогда не ездил к индейцам хопи, а работал с единственным представителем этого народа, жившим в городе. Более того, в 1983 году Эккехарт Малотки опубликовал книгу, в которой полностью перечеркивал выводы, сделанные Уорфом о времени в языке хопи.
Второе разоблачение касалось знаменитого примера с названиями снега в эскимосских языках. При цитировании Уорфа количество слов для разных видов снега постоянно росло, пока в редакционной статье в The New York Times в 1984 году не достигло ста. Над этим-то и издевались американские ученые, замечая, что такого количества слов для снега в эскимосских языках нет, а в английском в действительности их гораздо больше одного.
Разоблачения эти, правда, были не вполне убедительные. Во втором случае разоблачался вовсе не Уорф, а неправильная цитата из газеты. В первом же случае остается не вполне понятным, что произошло за примерно 50 лет в языке хопи (например, не происходили ли в нем изменения под влиянием английского языка) и так ли уж ошибался Уорф. Тем более что, по другим свидетельствам, он к хопи ездил и серьезно изучал их язык.
Более сильным противником оказалась теория универсальной грамматики, разработанная великим американским лингвистом, нашим современником Ноамом Хомским (род. в 1928). Он один из самых цитируемых ученых в мире, живой классик, основоположник генеративной грамматики, определившей направление развития лингвистики в XX веке. Одна из главных идей Хомского касалась врожденности языковых способностей и состояла в том, что грамматика языка универсальна и дана человеку в готовом виде так же, как законы природы; из тезиса о врожденности выводится тезис о глубинном единстве всех языков. А все существующие различия между языками мира признаются поверхностными. Другими словами, у всех языков мира на глубинном уровне есть нечто общее, и знание этого общего является врожденным для человека, что и дает ему возможность овладевать любым языком.
Таким образом, универсальная грамматика оказалась противоположной гипотезе лингвистической относительности, потому что в соответствии с ней языковые способности и мышление оказались не связаны друг с другом и взаимно независимы.
Хомский и Фуко
В 1971 году голландское телевидение записало дебаты Ноама Хомского и Мишеля Фуко — возможно, это самый популярный спор о природе человека в истории: на сегодняшней день в YouTube его посмотрело больше миллиона человек (и даже версию с русским переводом — больше 70 тысяч человек).
Главным отличием человека от животного, по мнению Хомского, являются «способность к обобщению и врожденные организационные принципы, управляющие нашим интеллектуальным социальным и индивидуальным поведением». Для Фуко человеческая природа — это концепция, не существующая без своего интеллектуального и социального контекста, а «фундаментальные» свойства человека, вроде когнитивных способностей, в действительности, по его мнению, постоянно меняются под влиянием различных внешних факторов.
Стивен Пинкер — психолингвист, последователь и популяризатор идей Хомского — в своей книге «Язык как инстинкт» очень ярко показал, как универсальная грамматика и идея врожденности противоречат гипотезе Сепира–Уорфа. Язык для Пинкера, как и для Хомского, — врожденная способность или, говоря еще более ярко, инстинкт, то есть нечто независимое от мышления и когнитивных способностей. Кстати, Хомский был беспощадным критиком и обучения обезьян человеческому языку, ведь у обезьян в отличие от человека нет соответствующей врожденной способности, а значит, они в принципе не могут выучить человеческий язык.
Экспериментальная наука
Хотя борьба между универсалистами и релятивистами продолжается, в последние годы ситуация изменилась. Грубо говоря, период разоблачения гипотезы Сепира–Уорфа закончился. Связано это прежде всего с двумя факторами: появлением новых языковых данных и их экспериментальной проверкой. Впрочем, экспериментально проверяются и старые данные. Сегодня без эксперимента разговор о гипотезе Сепира–Уорфа вести уже даже как-то и неприлично. Есть несколько языков, которые заставляют взглянуть на гипотезу Сепира–Уорфа по-новому.
Во-первых, конечно, язык пираха. В языке пираха нет (или почти нет) числительных, слов для обозначений цвета и родства, прошедшего и будущего времени. Нет сложных предложений, что, кстати, противоречит теории Хомского. Особенно интересно отсутствие числительных. Пираха — это язык народа пираха, охотников и собирателей, который живет в Амазонии, в отдаленном северо-западном районе Бразилии, по берегам реки Маиси, притока реки Амазонки. Всего пираха чуть более 300 человек. Уникальность этого народа состоит в том, что он не хочет ассимилироваться. Они почти не разговаривают на португальском языке и не используют достижений цивилизации. Основная информация о пираха пришла к нам от одного исследователя, Даниэла Эверетта (и от его бывшей жены Керен).
Эверетт установил, что в языке пираха есть два слова со значением количества. В ходе экспериментов выяснилось, что они значат, соответственно, «мало» и «много». Если Эверетт насыпал на столе кучку из камней и просил положить рядом такую же кучку, индейцы могли это сделать, ставя в соответствие каждому камешку из первой кучки свой собственный камешек. Но если первая кучка убиралась, восстановить количество камней индейцы пираха уже не могли, поскольку соответствующих числительных, помогающих запомнить количество, у них в языке нет. Более того, когда Эверетт попытался заняться просветительством и научить пираха считать, они отказались это делать, решив, что это им ни к чему.
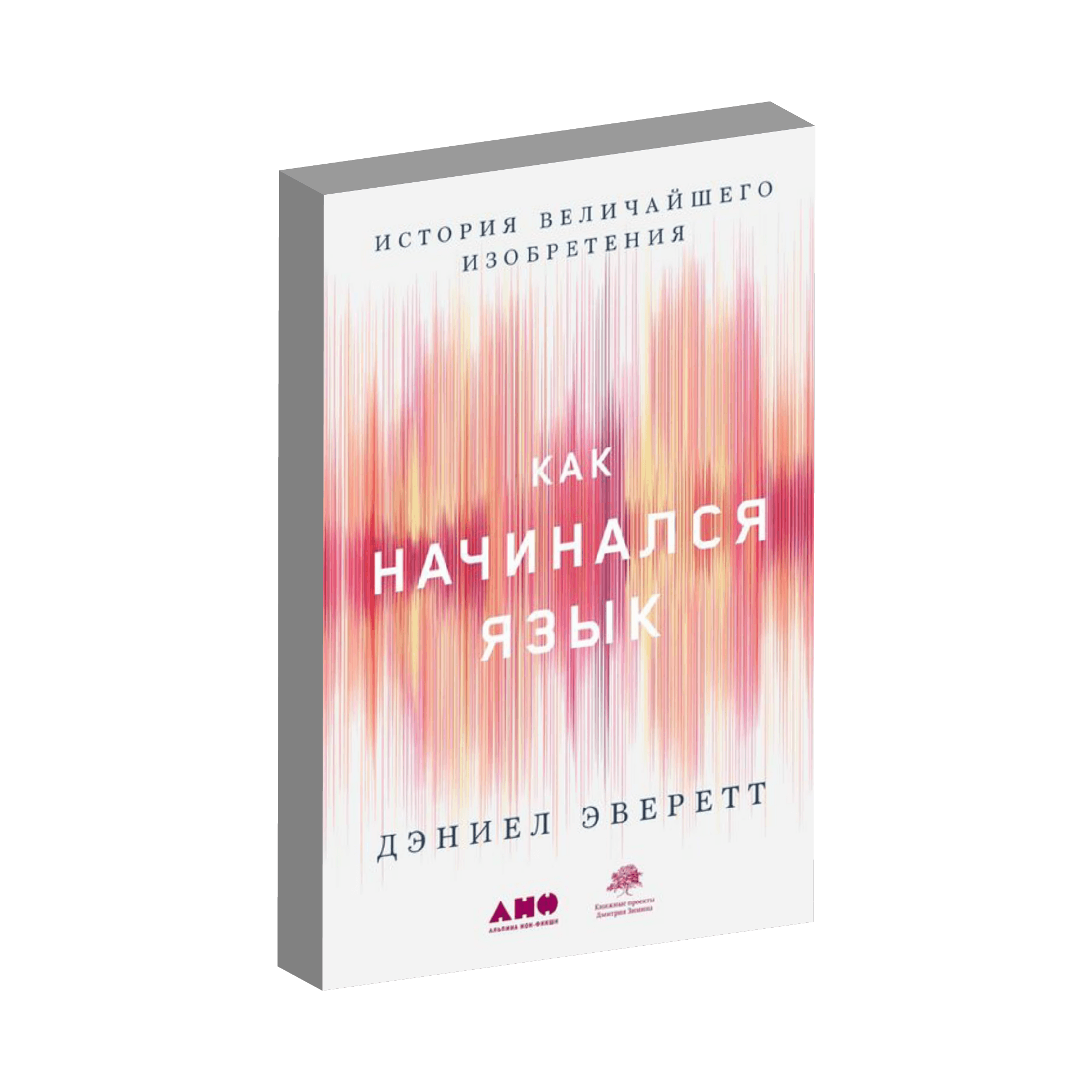
В своей последней книге, «Как начинался язык», Эверетт обосновывает культуроцентричную теорию происхождения языка: по его мнению, язык является не неотъемлемым свойством человеческой природы, а «изобретением», которое появилось и получило развитие благодаря человеческой культуре и способности к символизации.
Казалось, язык пираха и есть та самая замечательная находка, которая подтверждает, что язык и мышление связаны между собой. Пираха, живущие здесь и сейчас, не знают грамматических времен, придаточных предложений и всего того, что им не нужно для жизни. Но универсалисты и здесь вышли из положения. Они заявили, что это не язык пираха влияет на их индивидуальное мышление, а быт пираха, условия их жизни совершенно независимо повлияли, с одной стороны, на устройство их языка, а с другой — на то, как они мыслят и познают мир. Этот аргумент оказался во многом решающим в том смысле, что стало ясно: никакие конкретные данные не могут поставить точку в этом споре. Это два разных взгляда на мир.
И все-таки рассмотрим еще несколько замечательных языковых примеров.
В разных языках мира существуют разные типы ориентации в пространстве. Три основных — эгоцентричная, географическая и ландшафтная. Эгоцентричность означает, что все предметы ориентируются относительно говорящего; так, мы, например, говорим «справа от меня», «впереди меня». Даже когда мы говорим «слева от дома», мы имеем в виду то, как мы смотрим на дом. То есть в «эгоцентричных» языках мы используем слова типа «право», «лево», «впереди», «сзади», «сверху», «снизу». Кроме русского языка к «эгоцентричным» относятся английский, немецкий, французский, да и все широко распространенные языки.
Совсем иначе устроены географическая и ландшафтная ориентации, которые присутствуют в довольно экзотических языках. При географической ориентации говорящий ориентирует все предметы по сторонам света: север, юг, восток и запад, — а при ландшафтной ориентирами выступают наиболее заметные элементы ландшафта, такие как гора или море.
Изучение экзотических языков гуугу йимитхирр и цельталь показало нам удивительные вещи. Начнем с первого.
Гуугу йимитхирр — язык одноименного народа аборигенов Австралии, проживающих на севере штата Квинсленд. Аборигены ориентируют все предметы не относительно себя, а относительно сторон света. Вот один из примеров, любимых лингвистами. Мы скажем нечто вроде «муравей справа от твоей ноги», а абориген ту же мысль выразит иначе: к югу от твоей ноги, или к северу, или к востоку — в зависимости от того, как муравей реально расположен (хотя он всегда будет справа от ноги). Понятно, что у себя дома аборигены легко определяют стороны света — по солнцу, по мху, по природным приметам, просто зная, в конце концов, где север, юг, восток и запад. Самое удивительное, однако, состоит в том, что они не утрачивают способности ориентироваться по сторонам света и в незнакомой местности и ситуации, в том числе и будучи вывезенными в какой-то город, как будто у них в голове находится встроенный компас. По крайней мере, таковы свидетельства экспериментаторов.
Другой интересный в отношении ориентации язык — цельталь, один из языков индейцев майя, проживающих в штате Чьяпас в Мексике, на котором говорят около 65 тысяч человек. Они ориентируют предметы относительно особенностей природного ландшафта местности, в которой живут, располагая их либо выше по холму (uphill), либо ниже (downhill). То есть про того же муравья они могли бы сказать что-то вроде «муравей выше по холму от твоей ноги».
С вывезенными в Голландию представителями народа цельталь проводил эксперименты лингвист Стивен Левинсон. Оказалось, что индейцы цельталь решают некоторые пространственные задачи лучше голландцев, потому что устанавливают тождества, основываясь на иных пространственных принципах. Голландцы, как и мы, считают тождественными объекты, являющиеся в действительности зеркальными отражениями друг друга. Грубо говоря, если голландцу и индейцу цельталь продемонстрировать два номера в гостинице, расположенные по разные стороны гостиничного коридора, то они увидят их по-разному. Голландец, увидев в обоих номерах кровать слева от двери, а стол — справа, сочтет, что номера одинаковы. Индеец цельталь же заметит принципиальные различия, ведь кровать в одном номере расположена к северу от двери, а стол — к югу, а в другом номере все обстоит ровно наоборот.
Обратимся еще и к искусству и литературе, хотя понятно, что они не могут служить научным доказательством. В 2016 году на экраны вышел фильм «Прибытие» по рассказу американского писателя-фантаста Теда Чана; в его основе — гипотеза Сепира–Уорфа. По сюжету, лингвист усваивает язык инопланетян, в результате чего получает их способность видеть время в его полноте, то есть не только настоящее, но и прошлое, и будущее, по существу, так, как мы видим пространство. В реальной жизни такое все же невозможно.
Собственно, для универсалистов и упомянутые выше эксперименты не станут доказательством, но дело уже не в этом. Сегодня ученые сосредоточены не на том, чтобы доказывать или разоблачать гипотезу Сепира–Уорфа. Вместо этого они исследуют отношения между мышлением, языком и культурой и описывают конкретные механизмы взаимовлияния. Более того, параллели между языком и мышлением, установленные в последние десятилетия, производят впечатление даже на специалистов.
Современные лингвисты перестали спорить о том, влияет ли язык на мышление, потому что исследования стали экспериментальными, и начали исследовать отношение между когнитивными способностями, языком, культурой и описывать их через корреляцию — то есть сейчас ученых интересует не влияние одного на другое, а некое соответствие между ними.
Вопросы без ответов
За столетие исследования связи языка и мышления наука не получила ни окончательного, ни даже внятного ответа. До сих пор существуют ученые, полностью отрицающие эту связь, и ученые, ее подтверждающие, в том числе и экспериментально. Тем не менее значительный путь пройден, среди результатов важнейшими стали уточнение основных понятий — языка, мышления, когнитивных способностей — и самих отношений между ними. Был накоплен огромный языковой материал, открыты и описаны новые языки. Наконец, была осознана необходимость экспериментальной проверки гипотез о связи языка и мышления, а также проведен ряд конкретных и вполне убедительных экспериментов.
И все-таки завершить этот разговор я хотел бы фразой, нестрогой, экспериментально неподтвержденной и, что уж там говорить, ненаучной, но интуитивно понятной и отсылающей к началу обсуждения. Владение языком свидетельствует о наличии разума, что отличает человека от других существ, а обучение обезьян человеческому языку формирует у них зачатки разума.