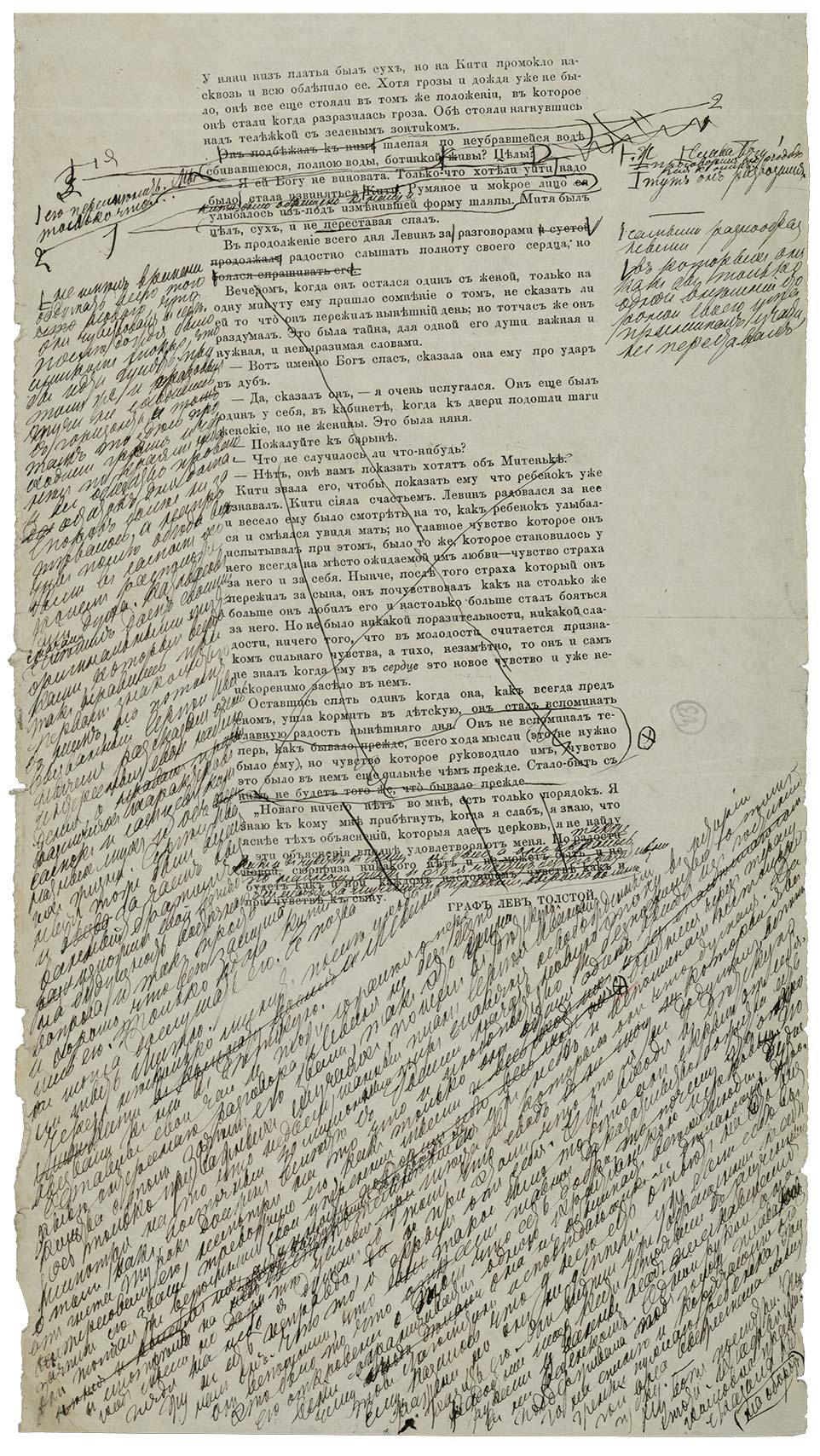1
Праздник возрождения?
Толстовский радикализм и его судьба
Андрей Зорин
Историк культуры, профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук

В XX веке в борьбе с превосходящими силами истории Толстой потерпел поражение. Однако сегодня мыслитель, последовательно защищавший традиционное аграрное общество от наступления современности, парадоксальным образом оказался созвучен миру пришедшего ей на смену городского постмодерна.
По давней традиции принято, чтобы тот, кто интересуется литературой и интеллектуальной историей, выбирал между Толстым и Достоевским, любил или по крайней мере предпочитал одного из них. Как и в большинстве других широко распространенных предрассудков, в этом со-противопоставлении есть свой смысл. Оба писателя видели письмена на стене и искали способ предотвратить надвигавшуюся катастрофу, и, хотя их диагнозы были во многом сходными, предложенные ими рецепты кардинально отличались друг от друга.
По-видимому, XX век стал веком Достоевского с его апокалиптическим духом, оправданным мировыми войнами и тоталитарными экспериментами. Миллионы читателей также привлекало к нему пристальное внимание к «мутным глубинам» человеческой души (Милан Кундера), вошедшее в резонанс со всемирной модой на психоанализ. Напротив того, Толстой с его психологическим реализмом и крестьянской утопией выглядел провинциальным и устаревшим. Его религиозное учение многим казалось причудой постаревшего гения, а восприятие его прозы было сильно отравлено советским монументализмом.
На этом фоне особенно заметен происходящий в последние десятилетия взрыв интереса к Толстому. На разных языках выходят всё новые и новые переводы его произведений, по ним снимаются фильмы и ремейки, ставятся спектакли и мюзиклы, а сам он становится героем биографических кинолент и романов. Но самое главное — идеи, когда-то выглядевшие совершенно эксцентрическими, неуклонно превращаются в интеллектуальный мейнстрим.
Как это уже нередко случалось, Россия идет в арьергарде этого процесса, несколько запоздало подключаясь к новой западной моде на русского гения. Еще совсем недавно, в 2010 году, в дни столетия смерти Толстого, интерес к нему образованной части европейской и американской публики резко контрастировал с равнодушием соотечественников, а сегодня толстовский ренессанс захватил и родину писателя. Уже 190-летие со дня рождения Толстого было отмечено с размахом, необычным для столь некруглой даты. В России вообще любят юбилеи, и, проморгав один, мы, скорей всего, постараемся отгулять свое на следующем, так что внимание к Толстому будет, я думаю, нарастать еще как минимум десять лет до его двухсотлетия, а скорее дольше. Вопрос, что мы вынесем из общения с его наследием.
Один из распространенных способов думать и говорить о Толстом — это разрезать его надвое, противопоставляя в нем художника — проповеднику, бунтаря — квиетисту, тончайшего аналитика — прямолинейному моралисту, жизнелюба — апологету опрощения. В числе родоначальников этой традиции были не только Ленин с набившим оскомину советским школьникам «с одной стороны — с другой стороны», и не только Исайя Берлин с его ежом и лисицей, но и сам Толстой, умевший сжигать мосты, отказываться от своих произведений, отвергать себя прошлого и заново начинать жизнь с чистого листа. Недаром Софья Андреевна еще в пору ухаживания Толстого за нею отметила «переменчивость мнений» как одну из главных черт своего будущего супруга. Однако именно эта «переменчивость» яснее всего свидетельствует о мучительном, но абсолютно последовательном поиске истины, продолжавшемся до последних мгновений жизни Толстого. Его художественные, философские и публицистические произведения, тома дневников и писем и даже его религиозная проповедь были лишь следами, которые он оставлял на этом непрерывном пути.
Зеркало русской революции
В одноименной статье, опубликованной к юбилею Толстого в 1908 году, Ленин писал: Толстой — это, «с одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, с другой стороны — „толстовец“, т.е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: „Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками“» и т.п. Внимание Ленина к Толстому, считавшего его «великим писателем» и автором «гениальных произведений», предопределило относительно благополучную судьбу его наследия в СССР.
Критерием истины для Толстого всегда была очевидность. Человек, увидевший и понявший истину, уже не мог в ней сомневаться. «Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и… даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде», — говорится в его первой дневниковой записи, сделанной в восемнадцать лет. А через сорок пять лет, в трактате «В чем моя вера?», излагая свое понимание христианства, он писал: «Учение Христа есть учение об истине. И потому вера в Христа не есть доверие во что-нибудь, касающееся Иисуса, но знание истины. В учении Христа нельзя уверять никого, нельзя подкупать ничем к исполнению его. Кто понимает учение Христа, у того и будет вера в него, потому что учение это — истина. А кто знает истину, нужную для его блага, тот не может не верить в нее». О том, что он «более всего на свете» любит истину, совпадавшую для него с его пониманием христианства, Толстой написал в ответе Святейшему синоду на фактическое отлучение от церкви и о том же сказал старшему сыну уже на пороге смерти.
Истина, которую всю жизнь искал Толстой, была призвана ответить на все мыслимые в его эпоху религиозные, философские, эстетические, политические и экономические вопросы, но самое главное — она должна была научить человека достойно жить перед лицом неизбежной смерти. «Легче написать 10 томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике», — заключил он уже процитированную здесь дневниковую запись. Вернувшись с Крымской войны начинающим, но уже знаменитым писателем, он обвинил ведущих авторов «Современника», радостно принявших его в свой круг, в отсутствии убеждений. «Я стою с саблею или кинжалом в дверях и говорю: пока я жив, никто сюда не войдет. Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением», — заявил он, по воспоминаниям Фета, Тургеневу и Некрасову, не сомневавшимся, что от их убеждений зависит будущее России.
Толстой претендовал на большее. Незадолго до этого разговора, еще в Севастополе, он был одушевлен «великой громадной мыслью, осуществлению которой» он «чувствовал себя способным посвятить жизнь», — «основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Речь шла не о создании философской системы, но о том, как придать смысл человеческому существованию на Земле. Молодой офицер собирался «действовать сознательно» для осуществления этого замысла и посвятил его воплощению следующие пятьдесят пять лет своей земной жизни.
По Толстому, люди тысячелетиями не были в состоянии разглядеть ясную и простую истину, потому что эгоистические интересы, пороки и слабости вели их в противоположном направлении. Как сказано в трактате «Царство Божие внутри Вас», «большинство людей мыслят не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы уверить себя в том… что та жизнь, которую они ведут и которая им приятна и привычна, и есть та самая, которая сходится с истиной». Чтобы увидеть и понять очевидное, человеку нужно вырваться из плена привычных и общепринятых условий жизни и преодолеть себя, и эта постоянная борьба с собой стала главным делом Толстого, его жизненным выбором и подвигом.
Неслыханный в истории не только русской, но и мировой литературы успех его прозы оказался чреват соблазном славолюбия, и знавший в себе грех тщеславия Толстой называл «Войну и мир» «многословной дребеденью» и говорил о «скучной и пошлой» «Карениной». В своей «Исповеди» Толстой признавался, что, думая о славе, которую принесут ему сочинения, он говорил себе: «„Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и что ж!..“ И ничего и ничего не мог ответить». Он бросил литературу, потом вернулся к ней, но все реже и реже печатал собственные произведения. В 1909 году, за полтора года до смерти, он написал в дневнике о «желании художественной работы; но желании настоящем, не таком, как прежде, — с определенной целью, а без всякой цели, или, скорее, с целью невидной, недоступной… заглянуть в душу людскую. И очень хочется, — добавил он. — Слаб».
Не менее грандиозным был успех его религиозного творчества — едва ли какому-нибудь еще пророку удавалось привлечь такое количество приверженцев и почитателей за одно-два десятилетия со времени, когда он начал свою проповедь. Но именно толпы адептов позволили ему увидеть и осознать опасность соблазна учительства, которому он был также в высшей степени подвержен, — в мировой литературе трудно найти произведение, где об этом соблазне и освобождении от него написано сильней, чем в «Отце Сергии», оставшемся не напечатанным при жизни Толстого. Уйдя из дому перед смертью, он сам не знал, куда хочет бежать, но был твердо уверен в одном: он не собирался оканчивать свою жизнь в толстовской коммуне, бремя лидерства тяготило его, и он мечтал безвестно раствориться в людском море. Последним его напутствием любимым дочерям Татьяне и Александре были слова: «На свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва».
На «одного Льва» смотрел весь мир. Толстой надеялся спрятаться и говорил, что «боится огласки», но его уход и смерть только подстегнули общественный интерес и стали одним из первых глобальных медиасобытий, освещавшихся от Японии до Аргентины. Он умирал в кругу верных учеников и последователей, контролировавших его жестче, чем государство и церковь, с диктатом которых он боролся всю жизнь. В предсмертные дни Толстой категорически возражал против того, чтобы ему кололи морфий, он ждал смерти и мечтал умереть в сознании. И все же, чтобы облегчить страдания больного, доктора сделали ему инъекцию. «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал (или не нашел)… Оставьте меня в покое… Надо удирать, надо удирать куда-нибудь», — записал Маковицкий последние слова Толстого, сказанные через четверть часа после укола.
В борьбе с превосходящими силами истории Толстой потерпел поражение. Произошло, по сути дела, все, против чего он предостерегал, а крестьянский мир, который он пытался спасти, погиб в потрясениях мировых войн, коллективизации и ГУЛАГа. И все же парадоксальным образом мыслитель, защищавший традиционное аграрное общество от наступления модерна, оказался более всего созвучен миру городского постмодерна.
Дауншифтинг стал сегодня респектабельным жизненным выбором; вегетарианство, в том числе в формах более строгих, чем его практиковал Толстой, — всемирной модой; массовое употребление табака, а затем и алкоголя начало стремительно падать. Все больше государств отказываются от обязательной военной службы и смертной казни, ненасильственное гражданское неповиновение превратилось в общепринятую и едва ли не самую эффективную стратегию политического действия, забота о сохранении природной среды и вовсе, по крайней мере на словах, объединила бóльшую часть человечества и превращается в новую мировую религию. Даже толстовское неприятие сексуальности, казалось бы, навсегда похороненное после сексуальной революции 1960-х годов, вновь возвращается на гребне неопуританской волны, поднимающейся с разных сторон политического спектра.
Был бы Толстой доволен этим «праздником возрождения», как называл Бахтин обыкновение человечества возвращаться к, казалось бы, забытым мыслям прошлого? Как правило, такие контрфактические вопросы не имеют ответа, но в данном случае у нас нет никаких оснований сомневаться в решительном «нет». Сегодня, как и всегда, людей надежно защищают от самих себя те, кто убеждены, что лучше всех знают, что действительно нужно другим, и имеют право их опекать, и последователи многих заветных идей Толстого как минимум ничуть не уступают своим былым оппонентам в готовности силой навязывать остальным свое миропонимание. Механизмы контроля за чужими поступками, мыслями и чувствами становятся все более изощренными и жесткими, и по-прежнему на Земле нет места, куда бы независимому человеку можно было удрать, чтобы ему никто не мешал.